РОДДОМ ИДЕЙ. ЕДИНСТВО И БОРЬБА
Образы Человека: от «фасеточного видения» – к Homo Complexus *
* Статья подготовлена на основе результатов реализации Школой антропологии будущего ИОН РАНХиГС программы «Антропологический поворот» проекта «Ректорий» в рамках специальной части гранта программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» на 2021–2022 г.
DOI 10.22394/2078–838Х-2023–2-8-18
Аннотация
Цель настоящей работы – проанализировать закономерности интереса к вопросу единства предмета психологии, чтобы на его материале порассуждать о том, существуют ли такие его имманентные свойства, развивая логику которых, можно было бы составить чертеж психологии и человека будущего. Отметим, что настоящая работа не претендует на жанр строгой научной статьи или тем более обзора, а выполняет более скромную роль творческого этапа «мозгового штурма» по проблемам организации современной психологии и основ футурологических размышлений. С этим связана и большая метафоричность, применяемая в этом жанре намеренно. Однозначно, все изложенные здесь идеи потребуют и второго этапа – критического.
Ключевые слова: Единство предмета психологии, рефлексия, футурология.
Ключевые слова: Единство предмета психологии, рефлексия, футурология.
- Глеб Дмитриевич ВзоринE-mail: g.vzorin@mail.ruМГУ им. М. В. Ломоносова, факультет психологии, 125009, РФ, Москва, ул. Моховая, 11, стр. 9. Researcher ID: AAB-8145-2019, ORCID ID: 0000-0003-2034-8007.
- Дмитрий Викторович УшаковE-mail: ushakovdv@ipran.ruАкадемик РАН, Институт психологии РАН, 129366, РФ, Москва, Ярославская ул., 13 к. Researcher ID: L-4222-2017, ORCID ID: 0000-0001-9716-1545.
РОДДОМ ИДЕЙ
ЕДИНСТВО И БОРЬБА
Может показаться, что психологии как «взрослой науке» уже не пристало всерьез задаваться «детскими вопросами» – широкими, в философском плане наивными и одновременно глубокими. К числу таких, следуя логике Т. Куна, можно было бы отнести вопрос о единой парадигме, характерный для допарадигмального, донаучного этапа становления области знания. В ответе на этот вопрос сходятся линии обсуждения предмета и метода определенного направления психологии, которое должно возобладать над остальными, а также обсуждение роли общей психологии и вопроса целесообразности ее существования в качестве сердца того или иного направления, той или иной парадигмы. Громче всего такие дискуссии звучали на заре становления психологии в контексте методологической рефлексии причин и способов выхода из наметившегося кризиса психологии. Характерно, что даже даты рождения научной психологии и появления в ней кризиса, как отмечает В. А. Мазилов [2013], следует признать совпадающими. Спустя же сотню лет мы видим разное развитие этих одногодок: психология развивается экспоненциально, растет запрос на нее и растет доля психологически-ориентированных практик в экономике, а рефлексия наличного кризиса при всем этом, кажется, напоминает встречу старых боевых товарищей или даже некогда врагов, которые за чашкой чая с долей щекотливой ностальгии вспоминают былые баталии как время великих свершений, которое сейчас кажется уже только интригующим миражом, отголоском древнего мифа. Иными словами, похоже, что вопрос единой психологии отошел на периферию, перестал быть важным для выживания науки, стал по преимуществу предметом интересных разговоров у камина [Ушаков, 2018].
Описанная выше утрата увлеченности «сведением концов с концами» не означает, однако, что вопрос решен и что время от времени интерес этот не вспыхивает в работах отдельных исследователей, как зарубежных, так и отечественных.
Первое соображение, которое возникает при поверхностном взгляде на все дискуссии как о предмете психологии, так и о частных ее вопросах – занимающие разные теоретические позиции исследователи способны друг друга понимать. По разные стороны баррикад стоят умные и проницательные люди, способные воспринять аргументы другой стороны, но остаться при этом на своей позиции, пусть и развивая ее в не самых принципиальных вопросах, оставляя «жесткое ядро» принципиально нетронутым. Если раньше они враждовали, то сейчас градус вражды мог снизиться, но это не отменяет, а только затушевывает различия. Почему же так происходит? Первая метафора, напрашивающаяся в качестве ответа, – сравнение ученых из разных школ с политиками противоборствующих партий. Их позиции являются принципиальными, а спор нужен не для выяснения истины, но для продвижения своей позиции – по сути, для маркетинга. С другой стороны, кажется, что люди науки в большей степени ориентированы на установление чего‑то, что имеет онтологическую значимость, что соотнесено с объективной истиной. Потому вторую метафору, открывающую иной ответ на этот вопрос, можно заимствовать у Мартина Хайдеггера. Сравнивая философа и поэта, он отмечал, что они как бы стоят на двух горных вершинах: один другого способен видеть и понимать, но для того, чтобы перейти на иную вершину, потребовалось бы проделать колоссальный путь через долину. Нечто возвышающее обоих и дает им возможность быть друг с другом в контакте, в этом насыщенном звездами пространстве, и одновременно разделяет их столь же сущностной преградой, имеющей характер не просто прихоти, но необходимости.
Наличие в психологии множества таких вершин, разделенных пропастью, воспринималось и воспринимается учеными как кризисное состояние. Причем вершинами выступают не только собственно теоретические школы, но и «академическая» и «практическая» психологии [Василюк, 1996; Журавлев, Ушаков, 2011], отрасли [Асмолов, 2002], уровни анализа [Кричевец, 2005] и др. Разумеется, констатация наличия такого состояния приводила и, хоть реже, но приводит по сей день к попыткам преодоления этой пропасти, к попыткам синтеза систем знаний. Д. В. Ушаков эксплицирует [2018] возможность двух путей такого синтеза: «снизу вверх» и «сверху вниз».
Описанная выше утрата увлеченности «сведением концов с концами» не означает, однако, что вопрос решен и что время от времени интерес этот не вспыхивает в работах отдельных исследователей, как зарубежных, так и отечественных.
Первое соображение, которое возникает при поверхностном взгляде на все дискуссии как о предмете психологии, так и о частных ее вопросах – занимающие разные теоретические позиции исследователи способны друг друга понимать. По разные стороны баррикад стоят умные и проницательные люди, способные воспринять аргументы другой стороны, но остаться при этом на своей позиции, пусть и развивая ее в не самых принципиальных вопросах, оставляя «жесткое ядро» принципиально нетронутым. Если раньше они враждовали, то сейчас градус вражды мог снизиться, но это не отменяет, а только затушевывает различия. Почему же так происходит? Первая метафора, напрашивающаяся в качестве ответа, – сравнение ученых из разных школ с политиками противоборствующих партий. Их позиции являются принципиальными, а спор нужен не для выяснения истины, но для продвижения своей позиции – по сути, для маркетинга. С другой стороны, кажется, что люди науки в большей степени ориентированы на установление чего‑то, что имеет онтологическую значимость, что соотнесено с объективной истиной. Потому вторую метафору, открывающую иной ответ на этот вопрос, можно заимствовать у Мартина Хайдеггера. Сравнивая философа и поэта, он отмечал, что они как бы стоят на двух горных вершинах: один другого способен видеть и понимать, но для того, чтобы перейти на иную вершину, потребовалось бы проделать колоссальный путь через долину. Нечто возвышающее обоих и дает им возможность быть друг с другом в контакте, в этом насыщенном звездами пространстве, и одновременно разделяет их столь же сущностной преградой, имеющей характер не просто прихоти, но необходимости.
Наличие в психологии множества таких вершин, разделенных пропастью, воспринималось и воспринимается учеными как кризисное состояние. Причем вершинами выступают не только собственно теоретические школы, но и «академическая» и «практическая» психологии [Василюк, 1996; Журавлев, Ушаков, 2011], отрасли [Асмолов, 2002], уровни анализа [Кричевец, 2005] и др. Разумеется, констатация наличия такого состояния приводила и, хоть реже, но приводит по сей день к попыткам преодоления этой пропасти, к попыткам синтеза систем знаний. Д. В. Ушаков эксплицирует [2018] возможность двух путей такого синтеза: «снизу вверх» и «сверху вниз».
Первый путь,«снизу вверх», напоминает чрезвычайно долгую и кропотливую попытку спуска со своих вершин вниз, пусть ценой утраты целостного видения «звезд», человека, но зато с возможностью и понимать друг друга, и действовать сообща в надежде дойти так же вновь к вершинам, но уже вместе. Явно или неявно предполагается, что снизу ученые будут строить свою Вавилонскую башню, основанную на прочном фундаменте эмпирических фактов и эмпирических моделей. Такие исследователи словно инвестируют в актив надежной компании на огромный срок в надежде на то, что спустя годы дивиденды в виде целостного видения накопятся сами собой. Отметим же ту комиссию, которую им приходится пока платить за видимую надежность своих построений – то, что можно было бы назвать, следуя за Я. А. Пономаревым, «эмпирической многоаспектностью», или «фасеточным» взглядом [Ушаков, 2018]. Применительно к проблеме восприятия А. Н. Леонтьев так характеризовал это положение: «Тщательными экспериментами и точнейшими измерениями мы как бы сверлим глубокие, но узкие колодцы, проникающие в недра перцепции. Правда, нам не часто удается проложить "ходы сообщения" между ними, но мы продолжаем и продолжаем это сверление колодцев и вычерпываем из них огромное количество информации – полезной, а также малополезной и даже вовсе бесполезной. В результате в психологии образовались сейчас целые терриконы непонятных фактов, которые маскируют подлинный научный рельеф проблем восприятия» [Леонтьев, 1983, с. 255]. Преждевременным было бы говорить, что этот путь заведомо обречен на неудачу. В конце концов, если мы полагаем, что разумная жизнь есть следствие слепого отбора, берущего начало с простейших форм, нельзя исключать и появление такой эмерджентной общей психологии (или иной науки), которая будет рождаться «сама» путем обобщения огромных массивов данных. Тем не менее, нельзя и констатировать наличие серьезных успехов на этом пути. Во-первых, потому, что это обобщение зачастую представляет собой лишь усреднение с малыми итоговыми размерами эффекта [Primbs et al., 2022], абстрагирующее то, что во множестве условий проявилось сходным образом, в то время как сущностное может иметь нелинейную связь со своими проявлениями в различных условиях. Решением этой проблемы могли бы выступить бурно развивающиеся методы математического моделирования, что, впрочем, тоже совершенно не очевидно и спорно, особенно в контексте дискуссий о «галилеевском» мышлении в психологии. Во-вторых, сами факты, сама точность описания и предсказания моделей нижнего уровня могут быть в пределе рассмотрены не как железные аргументы их истинности, а как случайные явления. Если мы не понимаем, с какой вершины смотрим на факты, а думаем, что факты «сами сгруппировались под нашим взглядом» (как писал Сартр), если не признаемся себе в том, что установление факта есть решение исследователя об установлении факта (по Попперу), то рискуем быть излишне уверены в том, что эти предсказания и впредь будут верны, и что приход новой теории не опрокинет все существовавшие до этого факты.
Второй путь, «сверху вниз», отправляется в изучении от априорного целостного понимания человека, рациональность которого опирается не на эмпирию, а на убедительность метафоры. Такая метафора и сопутствующая ей система знаний задают определенный язык высокоуровневых понятий, благодаря которому исследователи, стоящие на одной «вершине», могут друг друга понимать. Проблема заключается в невозможности обоснования адекватности той или иной метафоры, критериями служат лишь ее эвристичность и респектабельность на данном историческом этапе развития науки. Проект преодоления этой проблемы высокоуровневых теорий возможен, если полагаемая теорией архитектура психики и человека будет сама предметом методологической рефлексии: если будут даны ответы на вопрос «почему именно так?», иными словами, если метафора станет собственно теорией. Если путь «снизу вверх» рассматривался нами выше, как «спуск с вершин в долину», то путь «сверху вниз» следовало бы уподобить попытке возвыситься на всех вершинах, поскольку наше знание общих принципов организации человека позволило бы такому исследователю опираться не на смутную метафору, а на свои собственные отточенные понятия, которые бы служили ему «крыльями». В силу особенностей организации науки, образа человека и сложившейся интеллектуальной традиции в раннесоветский период развития психологии именно такой подход к преодолению кризиса стал ведущим. Проект психологии Выготского, во многом определяющий для отечественной психологии, как раз и подразумевал анализ различных позиций не в плоскости самих этих концепций, а из методологической позиции «над»: «Только тот, кто поднимает свой анализ из плоскости критического обсуждения той или иной системы взглядов на высоту принципиального исследования средствами общей науки, только тот разберется в объективном смысле происходящего в психологии кризиса» [Выготский, 2005, с. 73]. В таком подходе отчетливо проглядывает попытка воплощения гегелевского принципа отрицания отрицания, при котором следовало бы не отвергать, а «снимать» существующие противоречия. Незадолго до смерти Выготский писал по поводу своей системы: «Это последнее, что я сделал в психологии – и умру на вершине, как Моисей, взглянув на обетованную землю, не вступив в нее… Простите, милые создания» [Записные книжки Л. С. Выготского, 2018, с. 568]. Если бы этот проект был реализован, если бы последователи Выготского были бы окрылены не только чувственно, но и рационально-методологически, то противоречия «вершин» уже, надо полагать, были бы «сняты». Характерно, что сам Выготский, выступая против использования дополнительных эпитетов для характеристики его психологии, прямо видел свою задачу «не в создании школы рядом с другими школами», а в создании «единственной психологии, не допускающей никакой другой» [Там же, с. 189]. Прошли годы, школа Выготского и его последователей с той же неумолимостью, с которой практика должна была бы толкать «идеалистов к материализму», в практике реального развития истории науки получила‑таки имя «культурно-исторической» и преподается наряду с другими по сей день только как очередная «вершина».
Второй путь, «сверху вниз», отправляется в изучении от априорного целостного понимания человека, рациональность которого опирается не на эмпирию, а на убедительность метафоры. Такая метафора и сопутствующая ей система знаний задают определенный язык высокоуровневых понятий, благодаря которому исследователи, стоящие на одной «вершине», могут друг друга понимать. Проблема заключается в невозможности обоснования адекватности той или иной метафоры, критериями служат лишь ее эвристичность и респектабельность на данном историческом этапе развития науки. Проект преодоления этой проблемы высокоуровневых теорий возможен, если полагаемая теорией архитектура психики и человека будет сама предметом методологической рефлексии: если будут даны ответы на вопрос «почему именно так?», иными словами, если метафора станет собственно теорией. Если путь «снизу вверх» рассматривался нами выше, как «спуск с вершин в долину», то путь «сверху вниз» следовало бы уподобить попытке возвыситься на всех вершинах, поскольку наше знание общих принципов организации человека позволило бы такому исследователю опираться не на смутную метафору, а на свои собственные отточенные понятия, которые бы служили ему «крыльями». В силу особенностей организации науки, образа человека и сложившейся интеллектуальной традиции в раннесоветский период развития психологии именно такой подход к преодолению кризиса стал ведущим. Проект психологии Выготского, во многом определяющий для отечественной психологии, как раз и подразумевал анализ различных позиций не в плоскости самих этих концепций, а из методологической позиции «над»: «Только тот, кто поднимает свой анализ из плоскости критического обсуждения той или иной системы взглядов на высоту принципиального исследования средствами общей науки, только тот разберется в объективном смысле происходящего в психологии кризиса» [Выготский, 2005, с. 73]. В таком подходе отчетливо проглядывает попытка воплощения гегелевского принципа отрицания отрицания, при котором следовало бы не отвергать, а «снимать» существующие противоречия. Незадолго до смерти Выготский писал по поводу своей системы: «Это последнее, что я сделал в психологии – и умру на вершине, как Моисей, взглянув на обетованную землю, не вступив в нее… Простите, милые создания» [Записные книжки Л. С. Выготского, 2018, с. 568]. Если бы этот проект был реализован, если бы последователи Выготского были бы окрылены не только чувственно, но и рационально-методологически, то противоречия «вершин» уже, надо полагать, были бы «сняты». Характерно, что сам Выготский, выступая против использования дополнительных эпитетов для характеристики его психологии, прямо видел свою задачу «не в создании школы рядом с другими школами», а в создании «единственной психологии, не допускающей никакой другой» [Там же, с. 189]. Прошли годы, школа Выготского и его последователей с той же неумолимостью, с которой практика должна была бы толкать «идеалистов к материализму», в практике реального развития истории науки получила‑таки имя «культурно-исторической» и преподается наряду с другими по сей день только как очередная «вершина».
Итак, при самом поверхностном взгляде на оба пути преодоления многовершинности психологии мы видим наличие у обоих как сильных, так и слабых мест. Главное, что мы видим – пока ни один из проектов не привел нас к тому, что он, явно или скрыто, обещал. Едва ли из этого наблюдения должен следовать вывод о бесполезности всех этих попыток. Но вывод о наличии какой‑то очень фундаментальной неявной преграды, неумолимо разделяющей вершины, выглядит разумным. Этот неумолимый обрыв понятен как преграда, но не совсем ясно, почему в своем стремлении преодолеть его исследователи так или иначе опираются на нечто столь же неумолимое в своей объективности, что возвышает их теории, чтобы потом с той же неумолимостью разделить их.
Рассудим далее, следуя такому пониманию, что именно возвышает, разделяя, исследователей, обсуждающих вопросы единства психологии. В каких условиях бихевиорист понимает когнитивиста, патопсихолог – нейропсихолога, материалист – идеалиста? Снова взглянем на лежащие на поверхности обстоятельства. Первое – если бы этого чего‑то не существовало, то исследователи разных традиций были бы принципиально не способны друг друга понять, чего мы, однако, в столь радикальном виде не наблюдаем. Наблюдаем мы то, что есть некое общее пространство, общий уровень, на котором при желании один ученый может понять другого. Можно было бы предполагать, что это есть отнесенность к общему пространству надындивидуальных схем, культурному контексту, наконец, то, что все они являются людьми и имеют хотя бы потенциальные, вненаучные возможности для понимания логики другого. Попробуем, однако, чуть глубже понять это пространство. Обратимся вновь к проницательности Выготского. В работе «Исторический смысл психологического кризиса» он приводит известное рассуждение о том, что развитие прикладной психологии требует (и одновременно является мерилом) верности методологии, что на почве практики и возможно вызревание истинных концепций, в этом смысле «взаимопонимание» – единство, при котором даже «крайние идеалисты работают на материализм» [Выготский, 2005, с. 141]. Исследователи, изучающие разные эмпирические аспекты функционирования, скажем, рабочую память и имплицитное научение, в рамках одной метафоры, одной «вершины», как говорилось выше, имеют один язык и способны друг друга хорошо понимать. Но есть те области, войдя в которые, исследователи самых разных стран, культур, научных парадигм вынужденно будут сообразовываться, причем даже не из желания сотрудничества, а из некой необходимости, продиктованной особенностью области, в которую они вступили. Не сказать, чтобы исследователи внезапно начинали говорить на каком‑то общем языке – наоборот, их высокоуровневые метафоры даже в большей степени могут поляризоваться. Но на деле в некоторых областях, и одну из них обозначил Выготский как практику, их наработки начинают сближаться, а различия начинают рассматриваться не как неразрешимые, а как покрывающие частные аспекты, неверные же неумолимо устраняются. То есть мы имеем интересную ситуацию: исследователи могут войти в некое единое пространство, сохраняя за собой язык своей школы, и это пространство обеспечивает им особый род общего языка – язык «говорящий». Такой язык не является просто средством передачи мнений, он способен именно «говорить», то есть направлять и отбраковывать уже сказанное, причем «слово» его является всегда последним, поскольку воспринимается всеми сторонами аподиктически, но в то же время является и «неполным», не отвечающим за человека, не снимающим с него ответственности. Это понятие при первом приближении смутно фиксирует то общее, что давало исследователям самых разных ориентаций точку опоры. Иными словами, через этот общий язык говорит то, что можно было бы назвать объективной реальностью, бытием, во всей его сложности и многообразии, но таком, которое не сводится и не выводится из опыта человечества и человека. На данном этапе не представляется возможным как‑то более содержательно говорить об этом языке, поскольку для этого бы понадобилась иная точка опоры, в то время как ее мы признаем единственной и предельной. Тем не менее, далее мы придем к той точке, где, замыкаясь само на себя, данное понятие проявляется в полной мере. Сейчас это понятие видится необходимым, поскольку позволяет не пуститься в методологический анархизм в духе Фейерабенда или плюрализм в психологии, по В. М. Аллахвердову [2020], но и не вставать однозначно на позиции верности иных установок, лишь предполагая, что бытие имеет свой голос, который говорит с исследователями, но не всегда, не по любому поводу и глубоко специфическим образом. Пока зафиксируем то соображение, что сам предмет психологии как ключевой узел кризиса психологии является своего рода рупором такого говорящего языка, поскольку через призму предмета и метода и формируется воззрение ученого на свою область.
Итак, мы признаем, что само бытие способно возвысить вдумчивого исследователя до своих вершин, и его познание каким‑то образом является не просто фривольной выдумкой субъекта или надындивидуальных культурных схем науки, так что предмет психологии в некоторой степени способен сообщать то, что имеет отношение к объективной истине, даже помимо воли самого исследователя. Это объясняло бы саму возможность вершин как качественно отличных от обыденного или квазинаучного взгляда «из долины» в метафоре Хайдеггера. В то же самое время это не объясняет наличия очевидного разделения таких вершин. Представляется, что в науке психологии особенно ярко проявляется специфика, обуславливающая столь неумолимый разрыв между школами, как отмечают А. Л. Журавлев, И. А. Мироненко, А. В. Юревич [2018], связанная с социокультурной опосредованностью предмета и субъекта (исследователя) психологии. Приглядимся внимательнее к той социальной ситуации, в которой происходит развитие науки. Современной социальной детерминантой «фасеточности» психологии является особый сложившийся тип организации науки – «конвейерный» [Ушаков, 2018]. Ученые оперируют локальными моделями, привязанными к эксперименту, что позволяет рассмотреть процесс производства научного знания как последовательный процесс формулирования узких и четких моделей, выдвижения и проверки следствий из них разными исследователями в разных экспериментальных ситуациях. «Научное сообщество, таким образом, оказывается взаимосвязанным, создается контроль и обратные связи; в оценке, насколько это возможно, максимизируется объективный фактор – наука приобретает характер хорошо организованного предприятия» [Там же, с. 43]. Доминирование этой англо-американской конвейерной модели объясняется потребностью в меритократической оценке произведенного знания, видимостью прочной опоры и «нерушимостью» накопленного опыта, наконец, геополитическими факторами. Но есть и еще одна причина, которая фиксируется понятием «культуродигмы» [Семенов, Степанов, 1989] – такой фасеточный, конвейерный взгляд науки на человека, на удивление, может быть рассмотрен не только как издержка в угоду преимуществам организации науки, но и как взгляд, вполне адекватный сложившемуся образу человека. Речь даже не столько о всеобщем понимании природы человека, сколько об идеальном образе, регулирующем нормативе, который должен устанавливать планку в каких‑то определенных аспектах жизни общества, стремление к достижению которой будет расцениваться как соответствие индивида статусу «человека». Иными словами, такой идеал, цитируя Гете, «устанавливается подобно "яблочку" в мишени, в которое надо всегда целиться, даже если в него не всегда попадаешь» [цит. по: Франкл, 1990, с. 274], и, в свою очередь, влияет на выбор метафоры, лежащей в основе теорий верхнего уровня (хотя, конечно, не определяет их целиком). Можно заметить, что бихевиоризм в эпоху фордизма вполне задает такую планку как планку эффективности выполнения определенных четко очерченных действий с заданным результатом, который возможно оценить объективными методами. Дальнейшее развитие парадигмы в когнитивизм тоже, можно сказать, развивает этот взгляд на планку эффективности, но эффективность понимается скорее как умение быть интеллектуально многозадачным, подобно компьютеру. Психоаналитическая модель в период ослабления норм морали идет рука об руку с построением нового образа человека как человека, умеющего признавать свои «низшие» черты, а затем и перестать смотреть на них «сверху», стыдиться их.
Рассудим далее, следуя такому пониманию, что именно возвышает, разделяя, исследователей, обсуждающих вопросы единства психологии. В каких условиях бихевиорист понимает когнитивиста, патопсихолог – нейропсихолога, материалист – идеалиста? Снова взглянем на лежащие на поверхности обстоятельства. Первое – если бы этого чего‑то не существовало, то исследователи разных традиций были бы принципиально не способны друг друга понять, чего мы, однако, в столь радикальном виде не наблюдаем. Наблюдаем мы то, что есть некое общее пространство, общий уровень, на котором при желании один ученый может понять другого. Можно было бы предполагать, что это есть отнесенность к общему пространству надындивидуальных схем, культурному контексту, наконец, то, что все они являются людьми и имеют хотя бы потенциальные, вненаучные возможности для понимания логики другого. Попробуем, однако, чуть глубже понять это пространство. Обратимся вновь к проницательности Выготского. В работе «Исторический смысл психологического кризиса» он приводит известное рассуждение о том, что развитие прикладной психологии требует (и одновременно является мерилом) верности методологии, что на почве практики и возможно вызревание истинных концепций, в этом смысле «взаимопонимание» – единство, при котором даже «крайние идеалисты работают на материализм» [Выготский, 2005, с. 141]. Исследователи, изучающие разные эмпирические аспекты функционирования, скажем, рабочую память и имплицитное научение, в рамках одной метафоры, одной «вершины», как говорилось выше, имеют один язык и способны друг друга хорошо понимать. Но есть те области, войдя в которые, исследователи самых разных стран, культур, научных парадигм вынужденно будут сообразовываться, причем даже не из желания сотрудничества, а из некой необходимости, продиктованной особенностью области, в которую они вступили. Не сказать, чтобы исследователи внезапно начинали говорить на каком‑то общем языке – наоборот, их высокоуровневые метафоры даже в большей степени могут поляризоваться. Но на деле в некоторых областях, и одну из них обозначил Выготский как практику, их наработки начинают сближаться, а различия начинают рассматриваться не как неразрешимые, а как покрывающие частные аспекты, неверные же неумолимо устраняются. То есть мы имеем интересную ситуацию: исследователи могут войти в некое единое пространство, сохраняя за собой язык своей школы, и это пространство обеспечивает им особый род общего языка – язык «говорящий». Такой язык не является просто средством передачи мнений, он способен именно «говорить», то есть направлять и отбраковывать уже сказанное, причем «слово» его является всегда последним, поскольку воспринимается всеми сторонами аподиктически, но в то же время является и «неполным», не отвечающим за человека, не снимающим с него ответственности. Это понятие при первом приближении смутно фиксирует то общее, что давало исследователям самых разных ориентаций точку опоры. Иными словами, через этот общий язык говорит то, что можно было бы назвать объективной реальностью, бытием, во всей его сложности и многообразии, но таком, которое не сводится и не выводится из опыта человечества и человека. На данном этапе не представляется возможным как‑то более содержательно говорить об этом языке, поскольку для этого бы понадобилась иная точка опоры, в то время как ее мы признаем единственной и предельной. Тем не менее, далее мы придем к той точке, где, замыкаясь само на себя, данное понятие проявляется в полной мере. Сейчас это понятие видится необходимым, поскольку позволяет не пуститься в методологический анархизм в духе Фейерабенда или плюрализм в психологии, по В. М. Аллахвердову [2020], но и не вставать однозначно на позиции верности иных установок, лишь предполагая, что бытие имеет свой голос, который говорит с исследователями, но не всегда, не по любому поводу и глубоко специфическим образом. Пока зафиксируем то соображение, что сам предмет психологии как ключевой узел кризиса психологии является своего рода рупором такого говорящего языка, поскольку через призму предмета и метода и формируется воззрение ученого на свою область.
Итак, мы признаем, что само бытие способно возвысить вдумчивого исследователя до своих вершин, и его познание каким‑то образом является не просто фривольной выдумкой субъекта или надындивидуальных культурных схем науки, так что предмет психологии в некоторой степени способен сообщать то, что имеет отношение к объективной истине, даже помимо воли самого исследователя. Это объясняло бы саму возможность вершин как качественно отличных от обыденного или квазинаучного взгляда «из долины» в метафоре Хайдеггера. В то же самое время это не объясняет наличия очевидного разделения таких вершин. Представляется, что в науке психологии особенно ярко проявляется специфика, обуславливающая столь неумолимый разрыв между школами, как отмечают А. Л. Журавлев, И. А. Мироненко, А. В. Юревич [2018], связанная с социокультурной опосредованностью предмета и субъекта (исследователя) психологии. Приглядимся внимательнее к той социальной ситуации, в которой происходит развитие науки. Современной социальной детерминантой «фасеточности» психологии является особый сложившийся тип организации науки – «конвейерный» [Ушаков, 2018]. Ученые оперируют локальными моделями, привязанными к эксперименту, что позволяет рассмотреть процесс производства научного знания как последовательный процесс формулирования узких и четких моделей, выдвижения и проверки следствий из них разными исследователями в разных экспериментальных ситуациях. «Научное сообщество, таким образом, оказывается взаимосвязанным, создается контроль и обратные связи; в оценке, насколько это возможно, максимизируется объективный фактор – наука приобретает характер хорошо организованного предприятия» [Там же, с. 43]. Доминирование этой англо-американской конвейерной модели объясняется потребностью в меритократической оценке произведенного знания, видимостью прочной опоры и «нерушимостью» накопленного опыта, наконец, геополитическими факторами. Но есть и еще одна причина, которая фиксируется понятием «культуродигмы» [Семенов, Степанов, 1989] – такой фасеточный, конвейерный взгляд науки на человека, на удивление, может быть рассмотрен не только как издержка в угоду преимуществам организации науки, но и как взгляд, вполне адекватный сложившемуся образу человека. Речь даже не столько о всеобщем понимании природы человека, сколько об идеальном образе, регулирующем нормативе, который должен устанавливать планку в каких‑то определенных аспектах жизни общества, стремление к достижению которой будет расцениваться как соответствие индивида статусу «человека». Иными словами, такой идеал, цитируя Гете, «устанавливается подобно "яблочку" в мишени, в которое надо всегда целиться, даже если в него не всегда попадаешь» [цит. по: Франкл, 1990, с. 274], и, в свою очередь, влияет на выбор метафоры, лежащей в основе теорий верхнего уровня (хотя, конечно, не определяет их целиком). Можно заметить, что бихевиоризм в эпоху фордизма вполне задает такую планку как планку эффективности выполнения определенных четко очерченных действий с заданным результатом, который возможно оценить объективными методами. Дальнейшее развитие парадигмы в когнитивизм тоже, можно сказать, развивает этот взгляд на планку эффективности, но эффективность понимается скорее как умение быть интеллектуально многозадачным, подобно компьютеру. Психоаналитическая модель в период ослабления норм морали идет рука об руку с построением нового образа человека как человека, умеющего признавать свои «низшие» черты, а затем и перестать смотреть на них «сверху», стыдиться их.
Различные образы человека содержат в себе определенные проблемы, «боли времени» как общества в целом, так и человека в нем. На уровне конкретного ученого такая «боль» будет переживаться как актуальность исследования, увлеченность и одновременно как способ устранить эту «боль» своими исследованиями, а иные вопросы, актуальные некогда ранее, не получат такой эмоциональной окраски. Характерно, что такой тип интериоризации социально актуальной проблемы в ум ученого в ходе его становления заведомо закладывает и определенную амбивалентность той силы и того интереса, что движет им. Путь искреннего ученого тогда будет напоминать чрезвычайно трудоемкий подъем на вершину, превозмогающий эту «боль», вынужденно сообразующийся с ней, но лишь с целью добраться до той точки, в которой «боль» исчезнет, с тем чтобы ощутить, наконец, свободу, и свобода эта выглядела бы как прямой доступ к тому самому «говорящему языку», как возможность прямого с ним диалога. Увы, на деле каждый ученый так или иначе балансирует на гране различных вершин, не взбираясь на них до конца. Ниже мы будем обсуждать следствия такого понимания статуса науки, отметим пока одно существенное обстоятельство – необходимость методологической рефлексии этого баланса языка, социального запроса и объективности.
Различные образы человека и различные проблемы общества отражаются, в частности, в разной степени интереса к вопросу целостной, единой психологии, так что затухание и периодическое вспыхивание интереса к этой теме, обозначенное в начале статьи, не являются случайными, но связаны с тем, является ли ответ на вопрос о единстве понимания человека сущностным для существования всей области знания, либо же нет. Примерами образа человека, планки, при которой вопрос о целостном образе будет актуален, содержится по меньшей мере в трех образах, проектах человека. Один из них, который во многом и раздул огонь кризиса психологии – планка человека как части чего‑то большего, чем он сам – общества и / или идеологии, можно сказать, холистический образ человека. Имеются в виду в первую очередь парадигмы экзистенциализма, гештальтизма и марксизма в психологии. В последней на раннем этапе задача революционного построения целостного образа нового типа человека, деятеля, изменяющего реальность, подчиняющего себе ее и самого себя через вынесение собственно человеческой сущности в плоскость общества, и в этом смысле человека свободного, актуализирует и задачу решения кризиса «фасеточной», да и в целом многополярной психологии. Причем решение это видится особым образом, «революционным», или «акушерским» [Мазилов, 2019], когда психология «беременна» этой новой парадигмой и в муках кризиса ей вскоре предстоит ее неизбежно родить. Характерно, что этот подход, при всем его «окрыляющем» потенциале (имеем в виду все ту же метафору Хайдеггера), неизбежно предполагает большую долю догматизма, при котором во многом «говорящий язык» исследователей опосредуется идеологией и монистической методологией, пусть рационально обоснованной. В случае утраты искренней веры в идеологию и ее отчуждения «говорить» начинает постоянно меняющаяся политическая конъюнктура, финансово обеспечивающая существование института науки. Для этого промежуточного этапа характерен образ «человека подстраивающегося», который на следующем этапе, когда следование идеологии становится не обязательным, превращается во второй проект человека, при котором дискуссии о единстве предмета психологии могут иметь место – «человек имитирующий». Сперва между бытием, «говорящим языком», и ученым становится посредник, напоминающий священника – идеология. Затем по внешним политическим причинам образуется пустое место, которое заполняется симулякром этого посредника – имитацией научной деятельности, имитацией дискуссий, где напрочь отсутствует критика, при которой важно по инерции соблюдать внешнюю форму, видимость соответствия определенным нормативам ради них самих, будто, как прежде, это могло бы также приводить нас к бытию, когда был надежный проводник. По иронии, если мы утратили с ним непосредственную связь (какая была у «отцов» марксистской психологии), а тем более, если он и сам исчез, этот путь заведомо будет вести в пустоту. На наш взгляд, во многом утрата интереса в мире к дискуссиям о предмете психологии была связана с затуханием холистического проекта человека, заменой его «фасеточным», а периодический интерес к этой теме может (порой даже справедливо) ощущаться мировым сообществом именно как следствие такой имитации – это может являться неявным (но не единственным) коннотатом обидного для отечественной психологии отнесения некоторыми исследователям ее к «туземной» или сугубо «национальной».
Есть основания полагать, что мы живем в эпоху очередной смены образа человека, связанной (как и прежде) с развитием современных технологий. Есть также основания предполагать, что в рамках этого нового образа интерес к теме психологии целостного человека, а также целостной психологии как таковой вновь приобретет характер жизненно необходимого для науки, что возродит былые дискуссии на совершенно новом уровне в международном сообществе, ведь образ этот с большой вероятностью затронет все страны. Прежде чем обсудить такую перспективу, резюмируем сказанное выше с целью определить возможную трансформацию психологии на подступах к этому новому пониманию. Продолжая выдерживать метафорический стиль изложения, подытожим одним предложением: предмет психологии сказан образом человека в культуре, говорит языком объективной действительности и молчит о том, какая именно реальность стоит за ним. Как бы содержательно ни был определен предмет исследования науки психологии, он окажется зависим от того, что мы понимаем под человеком в его предельном смысле. Это внешний по отношению к самой науке культурный аспект предмета психологии, специфика которого должна быть учтена. Другой аспект относится к той части предмета психологии, которой он соприкасается с объективной истиной. Сюда относятся не столько надындивидуальные схемы теоретизирования и экспериментирования, а в первую очередь все то, через что объективная реальность неуловимо диктует исследователю свою волю, по мере того как продвигается исследовательская культура – «говорящий язык». Эти два аспекта, и в особенности второй, не лежат на поверхности, имеют тесную связь и требуют специального анализа – в этом смысле предмет «молчит» о том, каким образом он связан с культурой и действительностью. Первый аспект требует экспликации связи актуальных проблем с общей линией научных исследований, прогнозирования перспектив. Второй – развития особого рода научной этики. Мы предполагаем, что то, что Л. С. Выготский обозначал как практику, диктующую «железную методологию», является частным случаем области «говорящего языка» психологии, открытие которой состоялось и было абсолютизировано в той области, интерес к которой был тогда обусловлен как раз во многом первым аспектом – культурой времени. Сейчас же понятно, что далеко не всякая практика является такой надежной опорой, иначе мы бы не наблюдали «схизиса» академической и практической психологий. Но есть в практике и существенное, о чем говорил Выготский, и это – привилегированный доступ к истине, способность этого практического языка в определенных условиях подавать свой «голос» вопреки основному теоретическому языку исследователя. Проблема этого «голоса» заключается, как писалось выше, в том, что у нас, судя по всему, нет иных средств для вынесения суждений о самом этом языке, но есть возможность лишь бдительно вслушиваться в самые неожиданные области исследования, где он может проявиться. С этим связана этика исследования, которая, на наш взгляд, должна служить и в определенном смысле методологией. Этика эта заключается в признании ценности различных парадигм психологии, но речь не об их самоценности и даже не о том, что они могут служить напрямую материалом при разработке концепций более высокого уровня. Речь идет об уважении их возможности открытия таких необычных областей реальности, в том числе теоретической, в которой будет слышен тот самый зов истины – если мы не можем его дедуктивно вывести, непосредственно попав в платоновский мир истинных идей, то можем хотя бы вдумчиво прислушаться ко всем формам и местам, откуда слышен этот зов. Иными словами, «религией» ученого должно стать понимание. Понимание как самоценный процесс, позволяющий воздерживаться от преждевременного закрытия методологических путей, как процесс диалога, а также чуткость к собственному научному пути. Представляется, что построение целостного образа человека в рамках науки не будет возможно без такого понимания.
Мы начали с обсуждения наблюдаемого спада интереса к вопросу единой парадигмы психологии, показали его неслучайность, а также обрисовали те компоненты предмета, рефлексия которых, как представляется, составляет сущностный аспект высокоуровневых суждений о будущем развитии психологии. Поверхностная рефлексия второго компонента приводит нас к утверждению необходимости непредвзятого понимания как ценностной установки исследователя. Остановимся подробнее на первом аспекте – культурном образе человека и его влиянии на психологию будущего.
Мы живем в эпоху больших данных и технологий искусственного интеллекта (ИИ). Если на заре становления эти технологии представляли из себя довольно упрощенные алгоритмизированные вычисления, то сейчас ряд технологий уже прочно вошел в нашу жизнь, в том числе благодаря их применимости в профессиональной сфере (например, при постановке диагнозов, досмотре вещей, управлении автомобилем и пр.) и в обыденной жизни (в каждом смартфоне множество программ, от сортировки фотографий до голосовых ассистентов, работают на алгоритмах ИИ). Удивительная магия «черной коробки», которая, тем не менее, выдает точные и применимые на практике ответы на самые разные вопросы, заставляет правительства и ученых всего мира инвестировать все больше ресурсов в его развитие. Могущество некоторых современных алгоритмов, помноженное на технологический оптимизм и на присущую людям логику «вот приедет барин, барин нас рассудит», возводит постепенно, но уверенно новый образ той планки, которая задает образ стремлений человека: «придет компьютер, и компьютер нас рассудит» [Корнилова, Нестик, 2019]. Тем большим, что составляет сущность образа человека, теперь может выступить уже не общество, ценности и пр., а сверхчеловеческий интеллект, в который включен интеллект естественный, человеческий. Самое любопытное в том, что компьютер, похоже, и правда уже «пришел» и уже начинает нас постепенно «судить». В плане влияния этого образа на психологию стоит отметить две вещи. Во-первых, эта тенденция является закономерным продолжением описанной выше конвейерной системы психологии и путем ее синтеза «снизу вверх». Дело в том, что для обучения ИИ как раз и требуются большие объемы упорядоченных данных, что единственно и возможно при такой системе. Психологи уже вполне серьезно обсуждают заимствование методологических принципов из сферы машинного обучения, и первым ярким провозвестником нового подхода является дискуссия о том, что психологии, возможно, следует опираться не на возможности объяснения феноменологии, а на возможности предсказания [Yarkoni, Westfall, 2017]. Иными словами, хороша не та модель, которая хорошо объясняет, а та, которая позволяет нечто предсказать. Именно так и работает ИИ, и, к нашему удивлению, понимание и предсказание теперь нельзя очевидным образом свести воедино, как это было раньше. Далее, уже сейчас по значимым для науки направлениям предпринимаются попытки синтезировать и разметить большие объемы научной информации: метаанализы, интерактивные атласы, специальные базы данных эмпирических исследований определенной сферы, размеченных по теоретическим ориентациям и особенностям организации дизайна исследования [прим. Yaron et al., 2021], а также проекты коллабораций большого количества лабораторий [прим. Moshontz et al., 2018]. Во многих проектах по систематизации научного знания применяется искусственный интеллект для упрощения этой систематизации [прим. Nicholson et al., 2021]. Все это, с одной стороны, действительно организует сеть психологической науки из взаимодействующих центров различной ориентации. Все это, как писалось выше, создает очень прочный и разветвленный фундамент укорененной в эмпирию и сотрудничество конвейерной фабрики психологической науки. Но, помимо описанных выше «старых» проблем этого синтеза науки, возникает второе обстоятельство влияния ИИ на психологию: если логически и практически довести до предела эту идею, то она приведет к гибели всей психологии как самостоятельной науки. Обратимся вновь к языку метафор, чтобы лучше понять, о чем идет речь. Образно кризисное положение психологии Н. Н. Ланге сравнивал с Приамом, сидящим на развалинах Трои. Преимущество конвейерной психологии, действительно, в том, что ее фундамент выглядит нерушимым. Действительно, для прочности «фасеточная» психология вынуждена отодвинуть далеко вперед вопрос получения целостного образа человека. Но существует и иной, куда более вероятный вариант смерти огромного и прочного промышленного предприятия – не его разрушение из‑за катаклизмов, а исчерпание необходимости в нем. Если так будет продолжаться далее, то при следующем рефлексивном пробуждении психология увидит свой кризис не в руинах, а в собственной ограниченности, несопоставимости амбиций и реального результата. То будет не разрушенная Троя, а опустошенный город Терлингуа, построенный как промышленный город для шахтеров и превратившийся в город-призрак после исчерпания ресурсов добываемой там ртути. И чем более разветвленной и эффективной будет эта промышленная сеть по «добыче» знаний «снизу вверх», тем скорее она уйдет в небытие как научная дисциплина.
Различные образы человека и различные проблемы общества отражаются, в частности, в разной степени интереса к вопросу целостной, единой психологии, так что затухание и периодическое вспыхивание интереса к этой теме, обозначенное в начале статьи, не являются случайными, но связаны с тем, является ли ответ на вопрос о единстве понимания человека сущностным для существования всей области знания, либо же нет. Примерами образа человека, планки, при которой вопрос о целостном образе будет актуален, содержится по меньшей мере в трех образах, проектах человека. Один из них, который во многом и раздул огонь кризиса психологии – планка человека как части чего‑то большего, чем он сам – общества и / или идеологии, можно сказать, холистический образ человека. Имеются в виду в первую очередь парадигмы экзистенциализма, гештальтизма и марксизма в психологии. В последней на раннем этапе задача революционного построения целостного образа нового типа человека, деятеля, изменяющего реальность, подчиняющего себе ее и самого себя через вынесение собственно человеческой сущности в плоскость общества, и в этом смысле человека свободного, актуализирует и задачу решения кризиса «фасеточной», да и в целом многополярной психологии. Причем решение это видится особым образом, «революционным», или «акушерским» [Мазилов, 2019], когда психология «беременна» этой новой парадигмой и в муках кризиса ей вскоре предстоит ее неизбежно родить. Характерно, что этот подход, при всем его «окрыляющем» потенциале (имеем в виду все ту же метафору Хайдеггера), неизбежно предполагает большую долю догматизма, при котором во многом «говорящий язык» исследователей опосредуется идеологией и монистической методологией, пусть рационально обоснованной. В случае утраты искренней веры в идеологию и ее отчуждения «говорить» начинает постоянно меняющаяся политическая конъюнктура, финансово обеспечивающая существование института науки. Для этого промежуточного этапа характерен образ «человека подстраивающегося», который на следующем этапе, когда следование идеологии становится не обязательным, превращается во второй проект человека, при котором дискуссии о единстве предмета психологии могут иметь место – «человек имитирующий». Сперва между бытием, «говорящим языком», и ученым становится посредник, напоминающий священника – идеология. Затем по внешним политическим причинам образуется пустое место, которое заполняется симулякром этого посредника – имитацией научной деятельности, имитацией дискуссий, где напрочь отсутствует критика, при которой важно по инерции соблюдать внешнюю форму, видимость соответствия определенным нормативам ради них самих, будто, как прежде, это могло бы также приводить нас к бытию, когда был надежный проводник. По иронии, если мы утратили с ним непосредственную связь (какая была у «отцов» марксистской психологии), а тем более, если он и сам исчез, этот путь заведомо будет вести в пустоту. На наш взгляд, во многом утрата интереса в мире к дискуссиям о предмете психологии была связана с затуханием холистического проекта человека, заменой его «фасеточным», а периодический интерес к этой теме может (порой даже справедливо) ощущаться мировым сообществом именно как следствие такой имитации – это может являться неявным (но не единственным) коннотатом обидного для отечественной психологии отнесения некоторыми исследователям ее к «туземной» или сугубо «национальной».
Есть основания полагать, что мы живем в эпоху очередной смены образа человека, связанной (как и прежде) с развитием современных технологий. Есть также основания предполагать, что в рамках этого нового образа интерес к теме психологии целостного человека, а также целостной психологии как таковой вновь приобретет характер жизненно необходимого для науки, что возродит былые дискуссии на совершенно новом уровне в международном сообществе, ведь образ этот с большой вероятностью затронет все страны. Прежде чем обсудить такую перспективу, резюмируем сказанное выше с целью определить возможную трансформацию психологии на подступах к этому новому пониманию. Продолжая выдерживать метафорический стиль изложения, подытожим одним предложением: предмет психологии сказан образом человека в культуре, говорит языком объективной действительности и молчит о том, какая именно реальность стоит за ним. Как бы содержательно ни был определен предмет исследования науки психологии, он окажется зависим от того, что мы понимаем под человеком в его предельном смысле. Это внешний по отношению к самой науке культурный аспект предмета психологии, специфика которого должна быть учтена. Другой аспект относится к той части предмета психологии, которой он соприкасается с объективной истиной. Сюда относятся не столько надындивидуальные схемы теоретизирования и экспериментирования, а в первую очередь все то, через что объективная реальность неуловимо диктует исследователю свою волю, по мере того как продвигается исследовательская культура – «говорящий язык». Эти два аспекта, и в особенности второй, не лежат на поверхности, имеют тесную связь и требуют специального анализа – в этом смысле предмет «молчит» о том, каким образом он связан с культурой и действительностью. Первый аспект требует экспликации связи актуальных проблем с общей линией научных исследований, прогнозирования перспектив. Второй – развития особого рода научной этики. Мы предполагаем, что то, что Л. С. Выготский обозначал как практику, диктующую «железную методологию», является частным случаем области «говорящего языка» психологии, открытие которой состоялось и было абсолютизировано в той области, интерес к которой был тогда обусловлен как раз во многом первым аспектом – культурой времени. Сейчас же понятно, что далеко не всякая практика является такой надежной опорой, иначе мы бы не наблюдали «схизиса» академической и практической психологий. Но есть в практике и существенное, о чем говорил Выготский, и это – привилегированный доступ к истине, способность этого практического языка в определенных условиях подавать свой «голос» вопреки основному теоретическому языку исследователя. Проблема этого «голоса» заключается, как писалось выше, в том, что у нас, судя по всему, нет иных средств для вынесения суждений о самом этом языке, но есть возможность лишь бдительно вслушиваться в самые неожиданные области исследования, где он может проявиться. С этим связана этика исследования, которая, на наш взгляд, должна служить и в определенном смысле методологией. Этика эта заключается в признании ценности различных парадигм психологии, но речь не об их самоценности и даже не о том, что они могут служить напрямую материалом при разработке концепций более высокого уровня. Речь идет об уважении их возможности открытия таких необычных областей реальности, в том числе теоретической, в которой будет слышен тот самый зов истины – если мы не можем его дедуктивно вывести, непосредственно попав в платоновский мир истинных идей, то можем хотя бы вдумчиво прислушаться ко всем формам и местам, откуда слышен этот зов. Иными словами, «религией» ученого должно стать понимание. Понимание как самоценный процесс, позволяющий воздерживаться от преждевременного закрытия методологических путей, как процесс диалога, а также чуткость к собственному научному пути. Представляется, что построение целостного образа человека в рамках науки не будет возможно без такого понимания.
Мы начали с обсуждения наблюдаемого спада интереса к вопросу единой парадигмы психологии, показали его неслучайность, а также обрисовали те компоненты предмета, рефлексия которых, как представляется, составляет сущностный аспект высокоуровневых суждений о будущем развитии психологии. Поверхностная рефлексия второго компонента приводит нас к утверждению необходимости непредвзятого понимания как ценностной установки исследователя. Остановимся подробнее на первом аспекте – культурном образе человека и его влиянии на психологию будущего.
Мы живем в эпоху больших данных и технологий искусственного интеллекта (ИИ). Если на заре становления эти технологии представляли из себя довольно упрощенные алгоритмизированные вычисления, то сейчас ряд технологий уже прочно вошел в нашу жизнь, в том числе благодаря их применимости в профессиональной сфере (например, при постановке диагнозов, досмотре вещей, управлении автомобилем и пр.) и в обыденной жизни (в каждом смартфоне множество программ, от сортировки фотографий до голосовых ассистентов, работают на алгоритмах ИИ). Удивительная магия «черной коробки», которая, тем не менее, выдает точные и применимые на практике ответы на самые разные вопросы, заставляет правительства и ученых всего мира инвестировать все больше ресурсов в его развитие. Могущество некоторых современных алгоритмов, помноженное на технологический оптимизм и на присущую людям логику «вот приедет барин, барин нас рассудит», возводит постепенно, но уверенно новый образ той планки, которая задает образ стремлений человека: «придет компьютер, и компьютер нас рассудит» [Корнилова, Нестик, 2019]. Тем большим, что составляет сущность образа человека, теперь может выступить уже не общество, ценности и пр., а сверхчеловеческий интеллект, в который включен интеллект естественный, человеческий. Самое любопытное в том, что компьютер, похоже, и правда уже «пришел» и уже начинает нас постепенно «судить». В плане влияния этого образа на психологию стоит отметить две вещи. Во-первых, эта тенденция является закономерным продолжением описанной выше конвейерной системы психологии и путем ее синтеза «снизу вверх». Дело в том, что для обучения ИИ как раз и требуются большие объемы упорядоченных данных, что единственно и возможно при такой системе. Психологи уже вполне серьезно обсуждают заимствование методологических принципов из сферы машинного обучения, и первым ярким провозвестником нового подхода является дискуссия о том, что психологии, возможно, следует опираться не на возможности объяснения феноменологии, а на возможности предсказания [Yarkoni, Westfall, 2017]. Иными словами, хороша не та модель, которая хорошо объясняет, а та, которая позволяет нечто предсказать. Именно так и работает ИИ, и, к нашему удивлению, понимание и предсказание теперь нельзя очевидным образом свести воедино, как это было раньше. Далее, уже сейчас по значимым для науки направлениям предпринимаются попытки синтезировать и разметить большие объемы научной информации: метаанализы, интерактивные атласы, специальные базы данных эмпирических исследований определенной сферы, размеченных по теоретическим ориентациям и особенностям организации дизайна исследования [прим. Yaron et al., 2021], а также проекты коллабораций большого количества лабораторий [прим. Moshontz et al., 2018]. Во многих проектах по систематизации научного знания применяется искусственный интеллект для упрощения этой систематизации [прим. Nicholson et al., 2021]. Все это, с одной стороны, действительно организует сеть психологической науки из взаимодействующих центров различной ориентации. Все это, как писалось выше, создает очень прочный и разветвленный фундамент укорененной в эмпирию и сотрудничество конвейерной фабрики психологической науки. Но, помимо описанных выше «старых» проблем этого синтеза науки, возникает второе обстоятельство влияния ИИ на психологию: если логически и практически довести до предела эту идею, то она приведет к гибели всей психологии как самостоятельной науки. Обратимся вновь к языку метафор, чтобы лучше понять, о чем идет речь. Образно кризисное положение психологии Н. Н. Ланге сравнивал с Приамом, сидящим на развалинах Трои. Преимущество конвейерной психологии, действительно, в том, что ее фундамент выглядит нерушимым. Действительно, для прочности «фасеточная» психология вынуждена отодвинуть далеко вперед вопрос получения целостного образа человека. Но существует и иной, куда более вероятный вариант смерти огромного и прочного промышленного предприятия – не его разрушение из‑за катаклизмов, а исчерпание необходимости в нем. Если так будет продолжаться далее, то при следующем рефлексивном пробуждении психология увидит свой кризис не в руинах, а в собственной ограниченности, несопоставимости амбиций и реального результата. То будет не разрушенная Троя, а опустошенный город Терлингуа, построенный как промышленный город для шахтеров и превратившийся в город-призрак после исчерпания ресурсов добываемой там ртути. И чем более разветвленной и эффективной будет эта промышленная сеть по «добыче» знаний «снизу вверх», тем скорее она уйдет в небытие как научная дисциплина.
Поясним сказанное выше на конкретном примере. В 2020 году была представлена большая языковая модель GPT-3 [Brown et al., 2020], обучавшаяся на гигантском объеме текстов из Интернета и способная решать «любые задачи на английском языке». Впоследствии была представлена модель GPT-4, продемонстрировавшая в различных тестах результаты, которые позволили исследователям говорить уже о «проблесках» сильного ИИ [Bubeck et al., 2023]. Научное сообщество психологов тоже не осталось в стороне. Оказалось, что во множестве когнитивных тестов, включая тесты на принятие решений, сеть ведет себя, как человек, в том числе допускает те же самые когнитивные искажения, хотя, очевидно, заранее ей это в алгоритме никто не прописывал [Binz, Schulz, 2022]. Кажется, что, обучившись на миллионах текстов людей, эта сеть, являющаяся пока далеко не технологическим пределом, открыла в себе способности, в чем‑то аналогичные человеческим. Более того, у исследователей возникает логичный вопрос: если GPT способна мыслить, как человек, то «какой» она «человек»? И тут приходит на помощь психодиагностика, которая открывает, что и по личностным тестам GPT дает осмысленные результаты, так что на их основе можно составить представление о ее «личности» и «ценностях» [Miotto et al., 2022]. Дальше – больше: а что, если заменить живых испытуемых на ИИ, если результаты оказываются аналогичными [Grossmann et al., 2023]? Понятно, что сейчас все эти слова стоят в двойных кавычках, и справедливости ради следует признать существенную ограниченность существующих моделей в понимании нюансов смысла. Но нет оснований считать, что в самом ближайшем будущем психология вполне серьезно не будет изучать мышление и личность антропоморфных нейросетей. Тут и возникает то обстоятельство исчерпания ресурса, речь о котором шла выше. Что такое подобные GPT большие языковые модели (или иные архитектуры), как не целостный образ, прототип, способный выводить «дедуктивно» из себя вполне закономерные и проверяемые следствия о психике человека? Пока образ недостаточный, но, видится, это вопрос времени. Если это так, то получается, что целостный образ человека, к которому наука психология долго шла, будет построен практически без ее участия, а вся роль предприятия психологии сведется к корректировке и оценке антропоморфности модели. В то же самое время уже сейчас в практике встает вопрос об интеграции психологии и ИИ с целью создания ассистентов с заданными свойствами «личности», машин с возможностью эмпатичного понимания логики чувств человека и симуляции ее, «цифровых ангелов» и помощников человека, и пока не вполне понятно, как осуществлять этот синтез. Именно на этом моменте, если психология не поставит эксплицитно вновь вопрос о единой интегральной парадигме, а останется таким же сетевидным и фасеточным образованием, ее постигнет судьба Терлингуа: история неумолимо укажет ей ее место.
Но есть ли надежда все‑таки прийти к единой парадигме, или этот вопрос так и останется несущественным, и психологию будет ждать судьба Терлингуа? Для ответа на него следует обратиться к анализу ограничений, неизбежно встающих на пути такого сценария развития научного познания. Первое ограничение касается характера связи моделей ИИ с реальностью. Действительно, хотя в современных системах ИИ, как было обосновано выше, уже возможны т. н. «эмерджентные» способности, приводящие к новому знанию, диапазон их ответов все еще существенно ограничен выборкой обучения. Так, если бы современные модели ИИ учились на данных человечества XVII века, то и знания о мире и человеке у него были бы соответствующими. Связанное с этим ограничение касается и относительной «пассивности», «замкнутости» этих моделей в мире чистой информации, не имеющей осмысленности в силу отсутствия реальных референтов. Надо заметить, что это ограничение, похоже, не имеет принципиального характера. Уже сейчас предпринимаются попытки связи моделей ИИ с Интернетом в режиме реального времени и связи их с механизированными детекторами и манипуляторами для придания им возможности оперирования в реальном мире. Заметим, что, как только эта черта будет явным образом пересечена, ИИ начнет довольно сильно напоминать тот самый «говорящий язык», описанный выше, только в наиболее обобщенной из известных нам форм, и именно это дает нам надежду.
Второе ограничение, возникающее, если мы примем все описанные выше допущения, – это наша возможность понять не только ответы такого ИИ, но и процесс их получения. Действительно, если нас не интересует сущностное (научное, парадигмальное) понимание, а интересует только результат (пусть и работающий на практике), то мы можем столкнуться с описанным в романе Д. Адамса «Автостопом по галактике» сюжетом, где ответом на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого» оказалось число 42. Преодоление этого ограничения представляется более принципиальным и в то же самое время самым сущностным для понимания как науки, так и человека будущего. Для того чтобы человек мог «понимать», а не просто полагаться на данные превосходящего его ИИ или отвергать их, ему потребуется, сохраняя свою сущность, трансформировать ее реализацию за счет замены обычного языка, опосредствующего мышление и являющегося проводником культуры, на «говорящий язык» ИИ. Зачатки этой сложной потенциальной конфигурации уже сейчас активно изучаются в психологии [см. исследования гибридного интеллекта Heine et al., 2023], и, как следует из наших рассуждений выше, этот пункт может стать ключевым для сохранения за человеком человеческого, а за наукой – научного в условиях экспоненциального прогресса.
Но есть ли надежда все‑таки прийти к единой парадигме, или этот вопрос так и останется несущественным, и психологию будет ждать судьба Терлингуа? Для ответа на него следует обратиться к анализу ограничений, неизбежно встающих на пути такого сценария развития научного познания. Первое ограничение касается характера связи моделей ИИ с реальностью. Действительно, хотя в современных системах ИИ, как было обосновано выше, уже возможны т. н. «эмерджентные» способности, приводящие к новому знанию, диапазон их ответов все еще существенно ограничен выборкой обучения. Так, если бы современные модели ИИ учились на данных человечества XVII века, то и знания о мире и человеке у него были бы соответствующими. Связанное с этим ограничение касается и относительной «пассивности», «замкнутости» этих моделей в мире чистой информации, не имеющей осмысленности в силу отсутствия реальных референтов. Надо заметить, что это ограничение, похоже, не имеет принципиального характера. Уже сейчас предпринимаются попытки связи моделей ИИ с Интернетом в режиме реального времени и связи их с механизированными детекторами и манипуляторами для придания им возможности оперирования в реальном мире. Заметим, что, как только эта черта будет явным образом пересечена, ИИ начнет довольно сильно напоминать тот самый «говорящий язык», описанный выше, только в наиболее обобщенной из известных нам форм, и именно это дает нам надежду.
Второе ограничение, возникающее, если мы примем все описанные выше допущения, – это наша возможность понять не только ответы такого ИИ, но и процесс их получения. Действительно, если нас не интересует сущностное (научное, парадигмальное) понимание, а интересует только результат (пусть и работающий на практике), то мы можем столкнуться с описанным в романе Д. Адамса «Автостопом по галактике» сюжетом, где ответом на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого» оказалось число 42. Преодоление этого ограничения представляется более принципиальным и в то же самое время самым сущностным для понимания как науки, так и человека будущего. Для того чтобы человек мог «понимать», а не просто полагаться на данные превосходящего его ИИ или отвергать их, ему потребуется, сохраняя свою сущность, трансформировать ее реализацию за счет замены обычного языка, опосредствующего мышление и являющегося проводником культуры, на «говорящий язык» ИИ. Зачатки этой сложной потенциальной конфигурации уже сейчас активно изучаются в психологии [см. исследования гибридного интеллекта Heine et al., 2023], и, как следует из наших рассуждений выше, этот пункт может стать ключевым для сохранения за человеком человеческого, а за наукой – научного в условиях экспоненциального прогресса.
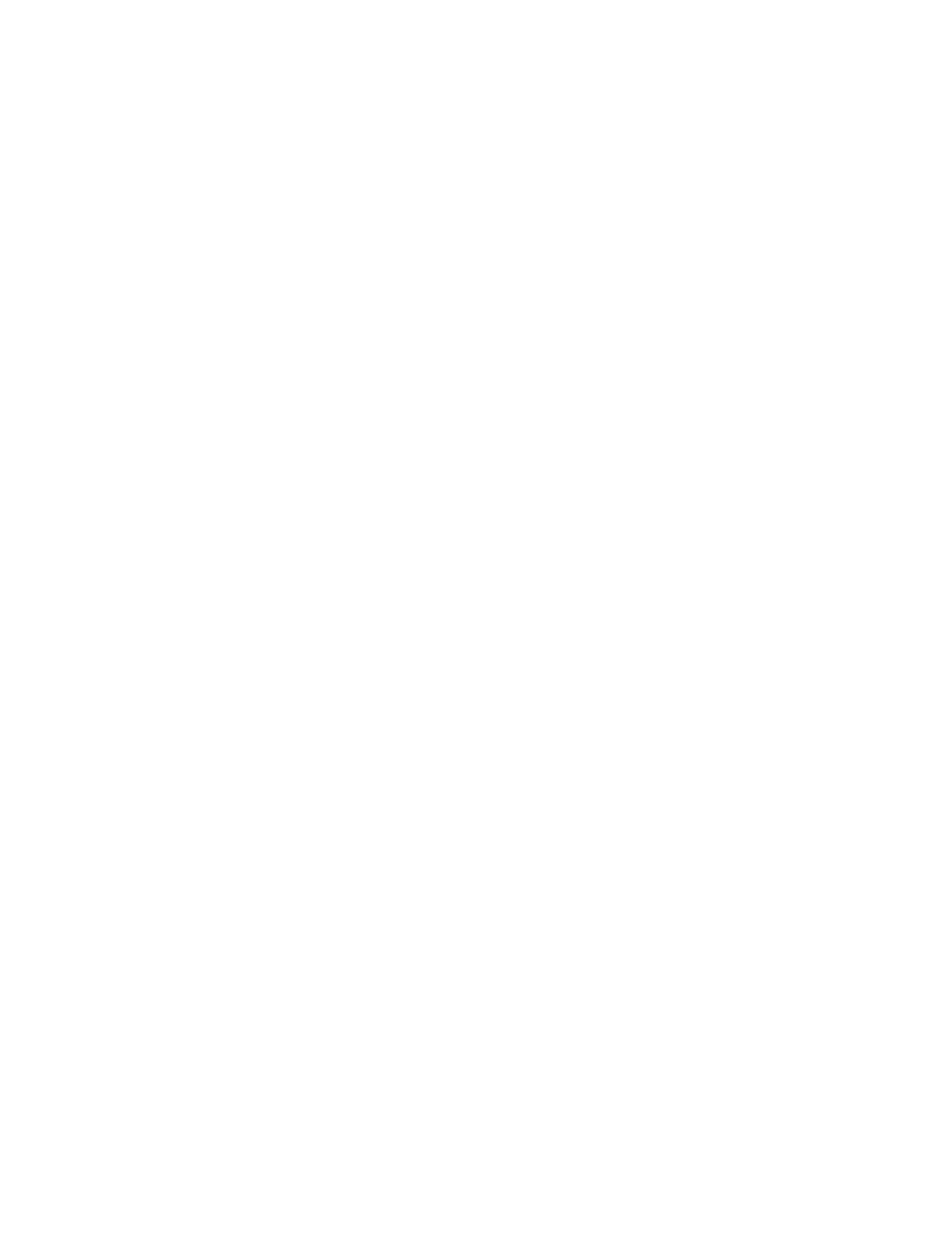
Список источников | References
1. Аллахвердов В. М. (2020). Три подхода к истине: методологический монизм, плюрализм и либерализм. Психологическая газета. https://psy.su/feed/8646/ (дата обращения: 08.10.2022).
2. Асмолов А. Г. (2002). По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии. М.: «Смысл».
3. Василюк Ф. Е. (1996). Методологический смысл психологического схизиса. Вопросы психологии, 6, 25.
4. Выготский Л. С. (2005). Психология развития человека. М.: Смысл; Эксмо.
5. Журавлев А. Л., Ушаков Д. В. (2011). Фундаментальная психология и практика: проблемы и тенденции взаимодействия. Психологический журнал, 32(3), 5–16.
6. Журавлев А. Л., Юревич А. В., Мироненко И. А. (2018). Психологическая наука в глобальном мире: вызовы и перспективы. Психологический журнал, 39(2), 58–71.
7. Записные книжки Л. С. Выготского. Избранное. (2018). (Общ. ред. Е. Завершневой и Р. ван дер Веера). М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация».
8. Корнилова Т. В., Нестик Т. А. (2019). Интервью с Т. В. Корниловой о будущем психологии. Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология, 4(4), 224–271.
9. Кричевец А. Н. (2005). Многоэтажная психология. Эскизный проект. Мир психологии, 3, 217–33.
10. Леонтьев А. Н. (1983). Избр. психолог. произведения, М.: Педагогика.
11. Мазилов В. А. (2019). Кризис психологии: новое понимание и трактовка. Ярославский педагогический вестник, 3, 90–100.
12. Ушаков Д. В. (2018). Анатомия психологического знания. Психологическое знание: Современное состояние и перспективы развития, 71–114.
13. Франкл В. (1990). Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем./Общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева. М.: Прогресс.
14. Binz M., Schulz E. (2022). Using cognitive psychology to understand GPT-3. arXiv preprint arXiv:2206.14576.
15. Brown T. et al. (2020). Language models are few-shot learners. Advances in neural information processing systems, 33, 1877–1901.
16. Bubeck S. et al. (2023). Sparks of artificial general intelligence: Early experiments with gpt-4. arXiv preprint arXiv:2303.12712.
17. Grossmann I. et al. (2023). AI and the transformation of social science research. Science, 380(6650), 1108–1109.
18. Heine I. et al. (2023). Hybrid Intelligence: Augmenting Employees' Decision‐Making with AI‐Based Applications. Handbook of Human‐Machine Systems, pp. 321–332.
19. Miotto M., Rossberg N., Kleinberg B. (2022). Who is GPT-3? An Exploration of Personality, Values and Demographics. arXiv preprint arXiv:2209.14338.
20. Moshontz H. et al. (2018). The Psychological Science Accelerator: Advancing psychology through a distributed collaborative network. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 1(4), 501–515.
21. Nicholson J. M. et al. (2021). Scite: A smart citation index that displays the context of citations and classifies their intent using deep learning. Quantitative Science Studies, 2(3), 882–898.
22. Primbs M. A. et al. (2022). Are Small Effects the Indispensable Foundation for a Cumulative Psychological Science? A Reply to Götz et al. Perspectives on Psychological Science.
23. Yarkoni T., Westfall J. (2017). Choosing prediction over explanation in psychology: Lessons from machine learning. Perspectives on Psychological Science, 12(6), 1100–1122.
24. Yaron I. et al. (2021). The Consciousness Theories Studies (ConTraSt) database: analyzing and comparing empirical studies of consciousness theories. bioRxiv.
2. Асмолов А. Г. (2002). По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии. М.: «Смысл».
3. Василюк Ф. Е. (1996). Методологический смысл психологического схизиса. Вопросы психологии, 6, 25.
4. Выготский Л. С. (2005). Психология развития человека. М.: Смысл; Эксмо.
5. Журавлев А. Л., Ушаков Д. В. (2011). Фундаментальная психология и практика: проблемы и тенденции взаимодействия. Психологический журнал, 32(3), 5–16.
6. Журавлев А. Л., Юревич А. В., Мироненко И. А. (2018). Психологическая наука в глобальном мире: вызовы и перспективы. Психологический журнал, 39(2), 58–71.
7. Записные книжки Л. С. Выготского. Избранное. (2018). (Общ. ред. Е. Завершневой и Р. ван дер Веера). М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация».
8. Корнилова Т. В., Нестик Т. А. (2019). Интервью с Т. В. Корниловой о будущем психологии. Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология, 4(4), 224–271.
9. Кричевец А. Н. (2005). Многоэтажная психология. Эскизный проект. Мир психологии, 3, 217–33.
10. Леонтьев А. Н. (1983). Избр. психолог. произведения, М.: Педагогика.
11. Мазилов В. А. (2019). Кризис психологии: новое понимание и трактовка. Ярославский педагогический вестник, 3, 90–100.
12. Ушаков Д. В. (2018). Анатомия психологического знания. Психологическое знание: Современное состояние и перспективы развития, 71–114.
13. Франкл В. (1990). Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем./Общ. ред. Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева; вст. ст. Д. А. Леонтьева. М.: Прогресс.
14. Binz M., Schulz E. (2022). Using cognitive psychology to understand GPT-3. arXiv preprint arXiv:2206.14576.
15. Brown T. et al. (2020). Language models are few-shot learners. Advances in neural information processing systems, 33, 1877–1901.
16. Bubeck S. et al. (2023). Sparks of artificial general intelligence: Early experiments with gpt-4. arXiv preprint arXiv:2303.12712.
17. Grossmann I. et al. (2023). AI and the transformation of social science research. Science, 380(6650), 1108–1109.
18. Heine I. et al. (2023). Hybrid Intelligence: Augmenting Employees' Decision‐Making with AI‐Based Applications. Handbook of Human‐Machine Systems, pp. 321–332.
19. Miotto M., Rossberg N., Kleinberg B. (2022). Who is GPT-3? An Exploration of Personality, Values and Demographics. arXiv preprint arXiv:2209.14338.
20. Moshontz H. et al. (2018). The Psychological Science Accelerator: Advancing psychology through a distributed collaborative network. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 1(4), 501–515.
21. Nicholson J. M. et al. (2021). Scite: A smart citation index that displays the context of citations and classifies their intent using deep learning. Quantitative Science Studies, 2(3), 882–898.
22. Primbs M. A. et al. (2022). Are Small Effects the Indispensable Foundation for a Cumulative Psychological Science? A Reply to Götz et al. Perspectives on Psychological Science.
23. Yarkoni T., Westfall J. (2017). Choosing prediction over explanation in psychology: Lessons from machine learning. Perspectives on Psychological Science, 12(6), 1100–1122.
24. Yaron I. et al. (2021). The Consciousness Theories Studies (ConTraSt) database: analyzing and comparing empirical studies of consciousness theories. bioRxiv.
Human Images: from «faceted Vision» to Homo Complexus
- Gleb D. VzorinE-mail: g.vzorin@mail.ruLomonosov Moscow State University, Faculty of Psychology, 125009, Russian Federation, Moscow, Mokhovaya str. 11, p. 9. Researcher ID: AAB-8145-2019, ORCID ID: 0000-0003-2034-8007.
- Dmitry V. UshakovE-mail: ushakovdv@ipran.ruAcademician of the Russian Academy of Sciences, Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, 129366, Russian Federation, Moscow, Yaroslavskaya str., 13 k. Researcher ID: L-4222-2017. ORCID ID: 0000-0001-9716-1545.
Abstract
The purpose of this work is to analyze the patterns of interest in the question of the unity of the subject of psychology in order to speculate on its material about whether there are such immanent properties of it, developing the logic of which, it would be possible to draw up a drawing of psychology and a person of the future. It should be noted that this work does not pretend to be a genre of a strict scientific article or even more so a review, but performs a more modest role of a creative stage of «brainstorming» on the problems of the organization of modern psychology and the foundations of futurological reflections. This is also connected with the great metaphoricity used in this genre intentionally. Clearly, all the ideas presented here will require a second stage – a critical one.
Key words: Unity of the subject of psychology, reflection, futurology.
Key words: Unity of the subject of psychology, reflection, futurology.
Если статья была для вас полезной, расскажите о ней друзьям. Спасибо!


